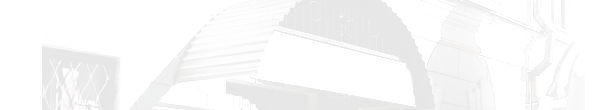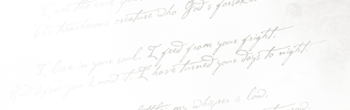К слову о художнике Владимире Лихачёве.
Миф и драма
Публикация: «Тоскуй, душа!» Книга воспоминаний о художнике Владимире Лихачеве. – Кирово-Чепецк, 2006. – 36 с.
С Владимиром Лихачёвым мы познакомились в начале 80-х годов, в то время, когда я был ещё студентом и в Чепецк, домой, приезжал только на каникулы.
Однажды, во время очередного такого визита, после экспедиции в Рудном Алтае, я продемонстрировал одному своему бывшему однокласснику редкостный трофей - наконечник копья XIII века, найденный мною на дне горной речки Уба. Однако, никакого впечатления моя находка на собеседника не произвела - он тотчас же мне заявил, что знает одного человека, у которого, по его словам, «этого добра - навалом». Так и тогда я впервые услышал о художнике Владимире Лихачёве.
Очень скоро, благодаря активной посреднической деятельности всё того же моего бывшего одноклассника, мы оказались сначала заочно представлены друг другу, а спустя какое-то время состоялась и наша непосредственная встреча, по приглашению самого Лихачёва, причём у него же и на квартире. По воспоминаниям нашего посредника, это было в году 1982, но вполне возможно, что и позднее, не берусь утверждать точно…
Лихачёву было тогда, наверное, лет 30 или немногим более того. Бородку в то время он ещё не носил, только «хохлацкие» усы, кончики которых в задумчивости или волнении оглаживал вниз. Длинные, прямые, темно-русые волосы он гладко зачёсывал назад, открывая купол крупного лба. Худощавый и тонкокостный - он казался моложе своих лет. Особенно этому впечатлению способствовало выражение его глаз, то и дело широко распахнутых и казавшихся как-то по-особенному светлыми на фоне загорелого до пергаментного цвета лица. Он вообще очень быстро загорал- бывало только ещё начало лета, а наш Лихачёв уже совершенно «копчёный» на своих этюдах.
Встретил он нас тогда очень радостно- приветливый, открытый, улыбчивый… Рукопожатие хрупкое- рука художника. Он с таким восторгом и изумлением обнаруживал каждую новую общую точку соприкосновения наших биографий и увлечений, что стало казаться, что этого человека я знаю давным-давно, но почему-то очень долго не видел.
Оказалось, что матери у нас родом из одной деревни и детство отчасти прошло в одних и тех же местах. Оказалось, так же что некоторых из моих старших родственников и по отцовской линии он хорошо знает, как своих самых ценных информаторов, сообщавших ему наиболее интересные сведения по местной, во многом полулегендарной «истории», которые и я, в своё время, когда-то в детстве слышал от них же, как часть каких-то семейных преданий. Сразу же у нас обнаружилась масса общих тем- многие проблемы этой «истории» представляли для обоих жгучий интерес.
Продемонстрировал он, наконец, и то самое «добро», которого у него действительно оказалось «навалом». В его квартире, «хрущёвке» из двух смежных комнат, кладовка представляла собой настоящую «сокровищницу»- там хранилась масса разного рода диковин, способных украсить экспозицию любого музея, но особенно интересной, на мой взгляд, была коллекция археологический находок.
Рассказывая о происхождении того или иного предмета из своей коллекции, уточняя привязку этих находок к местности, Лихачёв неожиданно обратился к своим работам: наброскам, этюдам и большим законченным картинам, наглядно демонстрируя на них, что именно и где он обнаружил, и где, по его мнению, и по данным каких-то известных ему источников, должны были бы располагаться городища, селища или могильники древних обитателей нашего края.
Не ведал я тогда ещё, конечно, что это и был ключ к пониманию специфики его живописи- у Лихачёва, как потом я убеждался не раз, практически не было пейзажа, как просто некого красивого вида и не более того. Очень многие его пейзажи, а часто и не только пейзажи, так или иначе были связаны со скрытой под дневной поверхностью земли древней историей, пусть легендарной, фантастической, но такой, какой её почувствовал, «увидел» и представил сам художник.
Важно отметить при этом, что образы, рождаемые его воображением, никогда не являлись чем-то внешним по отношению к внутреннему миру самого художника Лихачёва. Не будет таким уж большим преувеличением утверждение, что погружение художника в процессе творчества в свой внутренний мир, в мир своих грёз, приобретало у Лихачёва форму ухода в мир образов некого мифического прошлого, иллюзорного «золотого века»-созданной им самим иной реальности, опрокинутой в легендарную древность.
Именно этот особый эмоциональный настрой, свойственный состоянию погружения в свой внутренний мир, а вовсе не соответствие каким-то реальным историческим фактам, являлся тем «фильтром», посредством которого «просеивалось» всё то, что в конечном итоге ложилось в основу образов этой иной реальности на его холстах.
Механизм действия этих «волшебных очков», через которые в таком состоянии он видел мир, обладал непостижимой для постороннего человека избирательностью. Невозможно было «просчитать», что именно прозвучит в унисон с эмоциональным настроем его внутреннего мира, как будет переработано и в какой именно форме предстанет, в конце концов, искомый образ, семантику которого тем сложнее раскрыть умозрительно и «проговорить» словесно, чем более в нём было из сферы эмоций- «музыки души».
Без понимания первичности эмоционального, труд зрителя и экскурсовода перед картинами Лихачёва всегда будет чреват опасностью впасть в криптологию. Путь соблазнительный, но по своей сути не верный. Хотя у данного художника, конечно же, присутствует некий устойчивый арсенал образов, со вполне определённой семантикой, однако абсолютизировать этот момент не стоит: Лихачёв никогда не пытался намеренно что-то «шифровать», создавать «тайный код», играть со зрителем в головоломки. Он никогда не заявлял о себе как о носителе какой-то истины, откровения, лозунга или призыва, которые в скрытом для непосвящённых виде хотел бы донести до нас.
Пусть никому не покажется это обидным, но мы- зрители, занимали во всём том, что относилось к творчеству художника, ничтожно малое место. В самом деле, неужели, если бы не было нас, зрителей, то Лихачёв перестал бы писать свои картины? Для него живопись являлась даже не формой существования, это жизнь без живописи была бы только существованием. Поэтому в его творчестве не было ничего коньюктурного, ибо оно было обращено не к кому-то, не во вне, а во внутрь себя, и касалось явлений мира внутреннего, воплощавшихся в образах создаваемой им самим иной реальности.
Нужно ли говорить о том, насколько хрупким и зыбким был этот его иллюзорный мир? Когда спустя годы общение с художником стало уже не столь частым, а от случая к случаю, бывало, что мы не виделись неделями, наличие каких-то процессов, происходивших в его внутреннем мире, становилось всё более и более ощутимым. Чувствовалось, что происходит очевидная эрозия прежней благости созданного им иллюзорного «золотого века». Как оказалось впоследствии, это явилось для художника очень суровым испытанием.
Наверное, к Лихачёву вполне справедливо можно было бы отнести известную фразу из Леона Фейхтвангера о том, что «…человек потерявший иллюзии продолжает существовать, а человек сохранивший их- жить».
Чем меньше в художнике оставалось иллюзий, тем больше он становился просто человеком, для которого, в конце концов, пришёл срок платить по счетам реальных проблем.
Многое в эволюции творчества Лихачёва объясняется утратой этой прежней гармонии с самим собой, которую он обретал и сохранял, до поры до времени, благодаря кокону иллюзорного мира.
Обыкновение «выговариваться» на холсте, свойственное художнику, со временем стало открывать для нас в творчестве Лихачёва уже не столько ощущение гармоничности мира, преображённого мифом, сколько его дисгармоничность и противоречивость в которых художник пытался найти и отстоять себя. Почти по Карлосу Кастанеде он пытался, переносясь из одного измерения в другое, найти свою «точку сбора». Не случайно в это время он такое внимание уделял жанру автопортрета. С различными оговорками то состояние, которое он переживал, пожалуй, можно было бы назвать кризисом идентичности.
Кстати, горькую фразу Лихачёва «не в своё время я живу…», произнесённую им однажды, конечно же, не стоит понимать буквально: художник вовсе не жаждал жить в иную историческую эпоху, во времена идеализируемой им самим древности. Он имел ввиду совсем иное, не банальное понимание времени. Это время созданного им мифа. Время его грёз. Именно в это «время» было обращено его творчество. Именно из этого «времени» выбивали его коллизии времени реального, обыденного.
Жизнь оставляла слишком мало места для творчества по старым лекалам - ему всё труднее давался уход в то состояние души, а следовательно и в то «время мифа», связанное с ним, когда только и возможно было для него прежнее творчество, дарившее ощущением радости и гармонии…
Всё это я понял не сразу и не вдруг- живой человек ещё очень долго заслонял художника… Да и кто мог знать, что всё обернётся именно таким образом, это всё ещё было впереди, говоря словами древних- «ещё у судьбы на прялке», или точнее- «у мойр на прялках». А в ту пору, первоначального нашего знакомства, ничто ещё не свидетельствовало о грядущем кризисе.
Встречались мы тогда довольно часто, едва ли не ежедневно. Обычно день, наполненный скитаниями по городским окрестностям, от одного гипотетического археологического памятника к другому, заканчивался у Лихачёва дома. Мы засиживались допоздна и, чтобы не мешать семье, перебирались в «курилку» - лестничную площадку пятого этажа, перед дверью его квартиры. Щадя меня, он старался не курить: у нас шли бесконечные беседы. Ему было что рассказать. К примеру, в это время он переживал медовый месяц увлечения топонимикой, буквально спал на удмуртско-русском словаре и, как следствие, в нём бродило такое скопище «теорий» и «гипотез», что Захаров со своей «Серебряной Вяткой», мог вообще «отдыхать». Были и другие темы…
Запомнилось только, что я, особенно часто и, как потом оказалось, напрасно, пытался «поправить» казавшиеся мне малообоснованными или вовсе уж фантастическими некоторые «теории» моего собеседника. Лихачёв никогда не перебивал и не вступал в спор. Всегда внимательно всё выслушивал. Однако, спустя какое-то время, мне приходилось вновь и вновь убеждаться, сколь бесполезны были все мои ссылки на науку и здравый смысл. Лихачёв к тому времени уже совершенно сформировался как художник и не только в отношении мастерства в технике живописи, но, главным образом, в смысле того, что лежало в основании содержания его творчества. Какое тут значение могло иметь соответствие или несоответствие каким-то научным фактам - неужели, к примеру, фантастическая фабула «Илиады» и «Одиссеи» обесценивает художественную ценность этих произведений?
Тогда же, совершенно неожиданно, я столкнулся с ещё одной, поразившей меня, стороной его личности.
Как-то раз, на той же лестничной клетке, у нас зашёл разговор о теории Л.Н. Гумилёва - в те годы эта тема была довольно популярной в силу её новизны и оппозиционности устоявшимся мнениям. Я тогда, признаться, что-то не на шутку «завёлся» по поводу того, что Лев Гумилёв, как мне казалось, чрезвычайно избирательно использовал факты в обосновании своей теории симбиоза Руси и Орды и блага для Руси монгольского завоевания. В поисках аргументов я обратился к археологическому материалу, содержащемуся в доступной литературе, ссылаясь на факты, свидетельствующие о картине страшного разгрома русских земель и его губительных последствий для Руси. Живописуя эти факты, я вошёл в раж и остановился лишь только после того как взглянул в лицо своему собеседнику, сидевшему на ступеньках рядом. Я увидел, что глаза его полны слёз. Он молчал, но по темневшему и как бы застывшему лицу текли слёзы. Это была не истерика и не распущенность чувств- такого за ним не водилось. Я увидел перед собой человека невероятно впечатлительного, очень чуткого, с буквально обнажённой нервной системой. Он был совершенно потрясён, но, конечно же, не моим «искусством слова», а теми ужасными картинами, которые рисовало ему его же собственное изощрённое воображение.
Кстати, вполне возможно, что благодаря именно этой гиперчуткости и настроенности «видеть» и чувствовать под дневной поверхностью земли следы её древней истории, Лихачёв представлял собой в поле некую чрезвычайно чуткую, тонконастроенную…систему, инструмент, биоприбор- затрудняюсь дать определение, с самозаданной программой на поиск свидетельств древних культур- «старинок», как он их сам называл. Причём, что важно, он никогда не вторгался в землю, не разрывал её лопатой. Никаких актов насилия- просто бродил по окрестностям, погружённый в свои грёзы… В таком состоянии, во вполне естественных, на мой взгляд, складках местности, он «видел» рвы и валы древних городищ, языческие капища, курганы и могильники… Ведомый своим воображением, на распаханных полях, на осыпях речных берегов и склонов оврагов, он собирал, словно грибы, останки древних изделий из камня, кости, медных сплавов, железа, керамики и стекла.
У него даже были особенно излюбленные «грибные» места, куда он регулярно ходил после каждого сильного ливня, в течении многих лет. Потоки воды с крутого речного берега приносили ему, а порой и нет, к каждому такому визиту новую находку. Если результат был нулевой, то он ничуть не отчаивался и никогда не пытался «педалировать» процесс - влезть на береговой склон с лопатой, дабы попытаться взять всё и сразу. У Лихачёва всё было иначе - в полной гармонии с природными процессами. Словно земля отдавала сама, заключив с ним некий пожизненный контракт. Я не раз участвовал в таких походах и лично наблюдал все эти чудеса, но мне самому, признаюсь, «фарт в руки не шёл». Единственно, если только сам художник не указывал на торчащий из глины тонкий стебелёк какой-то былинки, не более сантиметра в высоту. После извлечения на свет божий эта травинка оказывалась тонкой, позеленевшей от окисла проволочкой- медным женским браслетом I в н.э., украшавшим, без малого 2000 лет назад, запястье какой-нибудь финно-угорской красавицы.
Археологи, с которыми я однажды поделился рассказом об этой особенности моего нового знакомого, восприняли мою информацию довольно спокойно. Оказалось, что им хорошо известно, что некоторые люди в их профессии действительно обладают, скажем так - «лёгкой рукой», что и они сами, случалось, предчувствовали находку, а знаменитый Окладников как то раз во сне увидел результаты предстоящих раскопок… Где тут правда, а где обычные байки людей, в чьей работе зависимость от случая, от удачи действительно напоминает труд рыбака, охотника или старателя- поди разберись. Но вот то, что у Лихачёва этот дар был - у меня никакого сомнения нет, как сказал бы сам художник- «икона святая».К тому же и результат налицо- в витринах музея.
В истинном его призвании - искусстве, подобная сверхчуткость, гипервосприимчивость, способность чувствовать тончайшие нюансы, наверняка для художника дорогого стоит. Однако, как ни странно, сам Лихачёв этой своей способностью, вполне осознаваемой, порой очень тяготился. Если на него находило то, что мы называем вдохновением, если у него картина «шла», то он особенно старательно избегал «общения» с работами признанных мастеров, пусть даже и на репродукциях. Он совершенно серьёзно утверждал, что они его «тянут за собой», «утягивают», а он, очевидно, в такие моменты особенно тщательно оберегал собственное, индивидуальное, только ему присущее в искусстве. Художник вообще крайне болезненно относился ко всякому давлению, ко всякому вторжению извне, но, при этом никогда не реагировал на это зло, резко и нетерпимо.
Как-то раз, он пожаловался на одного общего знакомого, заметно тяготившего его своей опёкой - «Только настроишься писать, душа как птичка раскроется –пиу-пиу-пиу», тут он поднял щепоть вверх, изображая клювик птенца, высунувшийся из гнезда, «как вдруг просовывается в двери голова и- конец, начинает мозги компостировать… Тоскуй душа!» На мою беспечную реплику- «А не послал бы ты их всех подальше», он среагировал неожиданно серьёзно и с болью, не приняв моего шутливого тона-«Володь, знаешь, если я буду рогатым (он имел ввиду носорожью или буйволинную толстокожесть- С.В.), то ведь тогда ничего не буду не чувствовать…»
Постепенно, год за годом, у него складывалась не только своя манера живописи, но и своя, весьма не простая, система образов с их очень сложной семантикой связей с предметным миром. Лихачёв стал очень часто, нарушая все условности жанров, вводить в пейзаж и в сюжетные картины элементы натюрморта, да и сам натюрморт, точнее - предметы его составляющие, постепенно всё более и более приобретали у него знаковый характер, многоуровневый и многослойный.
Однажды я застал Лихачёва в мастерской в совершенно расстроенных чувствах и крайне раздражённым. Оказалось, что виновником этого явился один из «собратьев по цеху», по убеждению художника «позаимствовавший» у него подобный приём, то есть также в своём пейзаже выставивший на переднем плане в крупном масштабе то ли крынку, то ли глиняные игрушки, только не дымковские, как у Лихачёва, а какие-то другие, но тоже северные, кажется- каргопольские… Лихачёва это совершенно «убило». Он на холсте выстраивал свой особый мир, в котором не было ничего случайного, всё было наполнено смыслом, находилось в сложной взаимосвязи значений, в полной гармонии с состоянием души… и вдруг кто-то, как посчитал художник, туда влез, присвоил нечто очень личное, не понимая ни смысла, ни толку… Столь сильно раздражённым Лихачёва я прежде ещё не видел. «Зачем так делать?» - раз за разом вопрошал он. Потом, после паузы, с очень глубоким чувством горечи художник произнёс: - «Мне противно». Это был единственный случай, по крайней мере, в моём присутствии, когда он позволил себе столь резко отнестись к творчеству другого художника.
Вообще же ревнивцем своего таланта он не был. Владимир Лихачёв в целом очень уважительно относился к творчеству своих коллег. Интересно, что при этом, наиболее бурно и эмоционально он реагировал на проявление художниками авторской смелости - «Что делает! Ничего не боится!» Он расплывался в улыбке во всё лицо, глаза сияли восторгом, лучились морщинками… «Эдак, эдак», «Лё чё сладили»- смаковал при этом он местные диалектизмы, доживающие свой век в устах вятских старушек. «Тоскуй душа!» О прочих же достоинствах и недостатках чужих картин говорил более спокойно, тихо, вдумчиво, явно не для последующей передачи. Публичных «разборов полётов», по крайней мере, при мне, никогда не было.
Вопрос влияния одного художника на творчество другого- тема, требующая особенно деликатного подхода. Большая по массе планета в силу естественных, физических законов, как известно, притягивает меньшие по массе объекты- очевидно, что какие-то силы притяжения и влияния существуют и в творческой среде…
Как-то молва стала «уличать» некоторых художников в том, что в их работах, якобы, явно сказывается влияние Лихачёва. Даже термин был придуман обидный - «лихачисты». Однако сам Лихачёв никогда такие мнения не поддерживал и тем таких не обсуждал. К своим коллегам - художникам, повторюсь, он был настроен весьма благожелательно. В нём присутствовало чувство корпоративной солидарности.
Даже в тех случаях, когда «богема» выбивала его из творческого процесса, художник никогда не облекал чувство досады в оскорбительные и резкие формы. Особенно если это касалось Николая Швецова- «Шведа», талант которого он ценил очень высоко. К Николаю Лихачёв благоволил необыкновенно, находя, что тот даже в загуле очень органичен, естественен и неподражаем. «Старенький»- так он обращался к нему.
Болезнь Швецова стала для Лихачёва сильным ударом. Умерли они в один год.
По доброму, с поразительной терпимостью и терпением он относился и к другому художнику- Геннадию Князеву, человеку не вполне здоровому, а потому весьма сложному в общении. Однако и Князев ходил у него в «стареньких», и у Лихачёва всегда хватало терпения выслушивать его, становившиеся со временем всё более и более невнятными речи. Не случайным было, наверное, то, что в его мастерской собирались люди очень разные и мне кажется, что основным связующим звеном в этом, порой, очень разношёрстном сообществе был именно Лихачёв.
Не стало его, потух огонёк и всё рассыпалось- та же самая мастерская превратилась просто в склеп.
Была вокруг Лихачёва, в его мастерской, какая-то атмосфера тепла и уюта. К нему можно было заглянуть «на огонёк» просто помолчать - сесть в угол и наблюдать процесс рождения картины. Удивительно, как знакомая в общих чертах по этюдам композиция, преображалась, благодаря необыкновенным, фантастическим цветовым сочетаниям. Поля, луга, леса сочились каким-то грузным, насыщенным марганцевым, или наоборот- кричащим ядовито-зелёным, малахитовым цветом, край неба мог пламенеть киноварью или стыть свинцом… Что-то во всём этом было дикое, стихийное- восторг и ужас. Это было так непохоже на Лихачёва, избегавшего всего кричащего, дисгармоничного, что оторопь брала - неужели он изменил своей творческой манере? «Это только подмалёвок»- улыбался художник. Потом на это безумство красок накладывался другой красочный слой, более тусклый, естественный, сообразный по тональности с нашей извечной вятской хмурью. Он «гасил» первозданное пламя подмалёвка, но всё-таки, казалось, что не до конца- всё равно ощущалось подспудное свечение этого первобытного пламени, подобно тому, как в человеке цивилизованном, где-то в глубинах подсознательного теплится уголёк иной, древней формы сознания- сознания мифологического, неразрывно связанного со стихией подавлённых древних инстинктов. Казалось, что такая «многослойность», свойственная живописи Лихачёва, это не просто следствие избранной им техники, но в гораздо большей степени - содержания, точнее- эмоциональной подоплёки сути его творчества.
Легко было представить, что мир явный, реальный на многих полотнах Лихачёва, это только экран в театре теней, за которым происходило действо созданного в его воображении и видимо только им мифа. То, что он создавал в живописи, вполне уместно было бы назвать мифотворчеством. В свете такого понимания его живописи, все обвинения Лихачёва в уходе от реальности, искажении её, а также в нарочитой «заумности» и искусственности сюжетов, вообще не имеют под собой никакой почвы. У мифа иная природа. Если хотите - это просто иной жанр.
Нужно отметить, что гораздо больше неприятностей доставляли Лихачёву не хулители его творчества, а, как ни странно - те, кто заставлял его внутренне съёживаться своими неумеренными славословиями и выражениями восторга в его адрес. Он полагал и был убеждён в этом, что именно такими действиями эти «почитатели его таланта», оказывают ему, на самом деле, «медвежью услугу», вызывая к жизни ответную реакцию- разговоры о том, что, якобы, это сам художник озабочен желанием заполучить место на пьедестале.
Лихачёв «звёздной болезнью» не страдал. За слова, действия и жесты других людей в отношении своего творчества он никакой ответственности не несёт. На этом данную тему и закончим. Отметим лишь только, как характерную черту личности, такой нюанс: Лихачёв, по его же словам, испытывал наибольший страх перед двумя особенно болезненными для него ситуациями- он очень боялся смотреть в лицо покойникам и просто панически боялся сплетен в свой адрес. «Да знаешь, будут опять говорить за спиной…,» морщился он с выражением крайней досады на лице и замыкался в себе, поёживаясь от отвращения. Любые разумные доводы, апелляции к здравому смыслу, попытки свести ситуацию к шутке не помогали. Он только ещё больше погружался в состояние отчаяния и ныл, как от зубной боли- «…начнутся разговоры…опять скажут…вот, мол, Лихачёв… противно всё это…» Он впадал в совершенную депрессию, становясь даже как-то меньше ростом.
Однако, это было не просто чудачество. Если мы вспомним о глубинных импульсах, вызывавших к жизни его творчество, неразрывно связанное с состоянием погружения в свой внутренний мир, то можно легко понять, что любые шумные акции и разговоры о том, что на самом деле было глубоко личным, если не сказать- интимным, казались ему более чем не уместными, и были по-настоящему ранящими. Инициаторы «продвижения» творчества Лихачёва этого совершенно не понимали, искренне полагая, что творят для него только добро. Художник, случалось, как человек очень внушаемый и мягкий, не мог устоять перед напором этих благодетелей, но внутренне очень тяготился тем, что прямо не относилось к работе непосредственно у мольберта.
К слову сказать- на презентациях, интервью и проч., очень скоро выяснилось одна его «маленькая хитрость»- вынужденный постоянно объяснять содержание многих своих картин, художник очень скоро выработал некие дежурные формулы, удобные тем, что они позволяли избегать необходимости «раскрывать душу» посторонним, часто случайным людям. Это была своего рода самозащита. Забавно только, что в зависимости от состава публики или быть может, по каким-то иным причинам, «объяснения» одних и тех же картин могли, от случая к случаю, довольно сильно отличаться. Так рождался миф о мифе.
Как известно, менталитет нашего общества не отличается особой терпимостью. Кого-то раздражала шумиха вокруг Лихачёва, к организации которой лично он не имел никакого отношения, у кого-то были серьёзные претензии к его творчеству, а иных коробила, якобы, немужественная чувствительность, склонность к постоянной саморефлексии, внушаемость, ранимость, мнительность и тьма других, реальных или мнимых пороков, в которых подозревался художник.
Все эти упрёки, справедливые или нет, свидетельствуют лишь о том, что перед нами был живой человек с присущими человеку слабостями.
Нужно только заметить, что большая часть недостатков, указанных выше, скорее являлась продолжением и порождением его достоинств как художника.
Строгим судьям личных качеств Лихачёва, хотелось бы заметить, что, вряд ли продуктивно осуждать художника за то, что тип его нервной системы столь полно соответствовал избранной им профессии. Неужели было бы возможным использовать личные качества художника, к примеру, лищь как рабочий инструмент- эпизодически, чтобы потом, отойдя от мольберта, сложить их вместе с кистями и красками в ящик и обрести некий не раздражающий никого усреднённый тип нервной системы, далёкий от каких-либо крайностей, но столь выгодный для повседневного использования…
Если кому-то больше понятно на примере великих, то, как хорошо известно, и среди них были художники, отмеченные особой чувствительностью и даже «плаксивостью», например, такой тончайший лирик, как Левитан.
Кстати, Левитан и Коровин были самыми любимыми художниками у Лихачёва. Из современников он очень высоко, по крайней мере в юности, ценил творчество Харлова. Благоприятный отзыв Харлова весьма многое означал для художника, и напротив- негативная оценка ввергала его в опустошительную меланхолию.
Однажды, вскользь брошенная Харловым фраза относительно его «Асабы»- «Что это тебя так сбросило», выбила художника из душевного равновесия надолго.
Позднее отношение к Харлову заметно охладело- видимо, Лихачёв всё более и более осознавал самоценность собственного творчества.
Воспоминания Владимира Лихачёва о собственной «альма матер» - КХУ, не поражали особенной теплотой. Он прямо говорил, что не получил в училище всего того, что жаждал – там не смогли дать ему искомого уровня. Время учёбы в КХУ было связано для него с очень болезненной ломкой. Лихачёв довольно рано нашёл подходы к той творческой манере, которая была ему так органично присуща. Когда он учился ещё в нашей «художке», его учителя, надо отдать им должное, всячески поддерживали и поощряли его индивидуальность- Лихачёв считался одним из лучших учеников школы. Однако в КХУ, совершенно неожиданно, примерно за то же самое, он стал получать самые низкие оценки. «Каково же мне было после сплошных пятёрочек, еле-еле тянуть на троечки»- вспоминал те годы художник. Обескураженный, но всецело доверяющий преподавателям, он «ломал» свою творческую манеру, под навязываемую технику, для которой была характерна лепка объёмов крупными, фактурными, локальными и грубыми мазками. Это было очень чуждо Лихачёву, но именно такую технику он тогда осваивал как «правильную» живопись. В его ранних работах, по крайней мере 70-х годов, тот Лихачёв, каким мы его знаем, совершенно неузнаваем.
Отказ от этой навязанной, но ставшей уже привычной и хорошо освоенной техники живописи, также произошёл не вдруг, и не просто, но это было уже «возвращением к себе».
Отношение Лихачёва к разного рода модным модернистским течениям было однозначным- для себя, по крайней мере на словах, всё это он считал неприемлемым.
Он не был снобом- умел ценить талант и смелость художников, достойно представляющих иные взгляды на искусство , но сам в каких-либо экспериментах не участвовал. Лихачёв довольно часто повторял, что надо идти от природы, что надо учиться у природы, что существует два вида художников- отражающих реальность и разрушающих, искажающих её. Себя он, конечно, относил к первым.
У него в мастерской всегда была под рукой книга в красном переплёте о Сальвадоре Дали. Он любил, порой, к случаю, с подчёркнутым значением, зачитывать из неё фразу великого сюрреалиста, смысл которой заключается в том, что абстрактным искусством можно заниматься лишь после того, как уже состоишься как художник, освоивший приёмы великих мастеров. В повальном увлечении абстрактным искусством Лихачёв подозревал тщательно скрываемые некоторыми художниками изъяны в мастерстве и отсутствие хорошей школы.
Однако, если проследить эволюцию творчества самого Лихачёва, то можно заметить, что на деле он вовсе не представлял собой «упёртого» и «несгибаемого» реалиста и на практике он очень далеко ушёл от декларируемых им же постулатов. Впрочем, художник и сам, наверное это чувствовал, но признавал с трудом.
Как-то раз на мой вопрос о том- как бы он сам определил свою живопись, Лихачёв, после минутного раздумья отшутился смущённым полу- вопросом, полу- ответом: «Может быть- романтический реализм? Или- романтический символизм? Или- символический романтизм?» Он безнадёжно махнул рукой. Совершенно очевидно было, что в своём творчестве он шёл не от какой-либо концепции или теории…
В каком направлении развивалось бы творчество Лихачёва далее? Очень сложный вопрос, поскольку творческие импульсы у этого художника являлись порождением каких-то глубинных процессов, связанных с его внутренним миром, а там кипело много чего… Косвенным свидетельством тому могли служить его мировоззренческие и творческие метания, проявлявшиеся в поисках новых тем, сюжетов, образов… Он возвращался и к прежним темам, перерабатывая их , смотрел на них с иных позиций, изменял технику живописи, композиционные приёмы.
В результате, порой, появлялись работы, как бы выбивающиеся из общего ряда, представляющие собой результат иногда продуктивных исканий, а порой- не получивших дальнейшего развития.
К таковым можно отнести, например, полотна, в которых некоторые эрудиты любят подчёркивать, кстати, совершенно напрастно, влияние творчества Иеронима Босха. Эти две картины особенно часто демонстрируют на его выставках, где они, почему-то, всегда привлекают наиболее оживлённое внимание публики. Однако сам автор никогда их особенно не выделял и относился к ним весьма и весьма сдержанно, если не сказать более…Подходы, заявленные в этих работах, в том числе и отказ от многослойной, сложной техники в пользу живописи « а ля прима», также не получили никакого особенного развития в дальнейшем.
И напротив- обделённая вниманием публики и малозаметная на выставках, небольшого формата работа- «Возвращение стада» («Возвращение красного стада»), для Лихачёва явилась едва- ли не концептуальной. Она представляла собой некий рубеж или этап в его творчестве, достигнув который, возможно по наитию, он, наконец, нашёл то, что осознав и прочувствовав, развивал в своём дальнейшем творчестве большую часть оставшейся на его срок жизни…
Правда, это осознание пришло не само по себе, у него был «поводырь»- некий московский художник, восхитившийся этой работой и заявивший, что, по его словам «во всей Москве так никто не пишет и такого ни у кого нет».
Однако, не следует думать, что Лихачёв был настолько уж зависим от стороннего мнения. Его работа «Серая осень», заставляющая вспомнить о высвеченных молниями пейзажах Эль-Греко и однажды скандально высоко оценённая авторитетным кировским искусствоведом- «Среди нас появился гений»,так и осталась лишь моментом, не получившим в дальнейшем творчестве никакого развития. Очевидно, что всё дело было в том, насколько полно тот или иной подход соответствовал состоянию внутреннего мира художника, ибо именно этот фактор в его творчестве являлся первичным.
Было бы удивительным, если бы погружённость в свой внутренний мир, столь свойственная творчеству Лихачёва, не имела прямым следствием биографичность многих моментов, нашедших своё отражение на его полотнах. Художник действительно часто отмечал своё собственное присутствие в создаваемом им пространстве картины. И тогда с явлениями мира ирреального самым прихотливым и причудливым образом переплетались воспоминания и грёзы детства и юности, коллизии творческой и личной жизни.
Это «присутствие» могло проявляться самым различным образом- то явным, как на автопортретах, то, без подсказки самого художника, совершенно неузнаваемым- иногда это могло быть лишь знаком, тенью, отношением. Например, это могли быть какие-то знаки внимания и приязни, понятные только двоим- след глубокого чувства, посетившего его, увы, уже на излёте жизни, или какие-то иные моменты, связанные с «проклятыми вопросами бытия», с попытками разобраться в себе и в том, что творилось вокруг, со всеми нами.
В качестве примера - на пейзажном полотне, где изображено вполне реальное место, реальная деревенька, можно заметить фигуру человека, перебирающегося через полосу вспаханной земли пересекающей дорогу, по которой он идёт.
История данной картины такова- одна старушка из этой деревни, указала художнику на место, где когда-то была дорога, по которой ушли на войну и не вернулись домой деревенские парни и мужики, в том числе и её родные. Как бы ни запахивали впоследствии, много лет спустя ,этот путь тракторами, всё равно старая дорога проявлялась сквозь пахоту, напоминая родным об ушедших на фронт близких…
Лихачёв был потрясён этим бесхитростным рассказом. Он всегда чувствовал, что под дневной поверхностью земли скрыта её истинная история- умей только её увидеть, почувствовать. Пробирающаяся через пахоту человеческая фигура- это он сам, ведомый памятью, преодолевающий беспамятство реального, настоящего мира, старающегося стереть с лица земли следы прошлого.
Ещё меньше портретных черт в фигуре маленького «чудского» воина, среди суеты других персонажей, одиноко стоящего на страже и защите своего маленького мира от вторжения в него враждебной, чужой ему реальности…нашей реальности.
Столь же мало имеет портретных черт распятый на кресте скоморох-разбойник, но это тоже он, художник, обречённый пожизненно нести крест своей вины за несостоявшееся семейное счастье и личную жизнь в будущем этой маленькой девочки, держащей в руках крест с распятой фигуркой скомороха,девочки, чей портрет списан им с детской фотографии его бывшей жены…
В другом случае, в, якобы, «натюрморте», весьма условно он изобразил себя в виде усталого, измученного и немолодого уже эльфа, бредущего в свой шалашик под опавшим осенним листом…
На его известном триптихе он скорее угадывается, нежели узнаваем, в сидящей мужской фигуре с безжизненно свёрнутой головой- знаком смерти человека, потерявшего свою душу, изображённую в виде бабочки… Кстати, эта метафора не случайна- по представлениям древних греков, именно в бабочек превращались души умерших людей. Это, пожалуй, единственное заимствование Лихачёвым из образов античной мифологии.
Его можно узнать в парящей в небе, подобно известным персонажам Марка Шагала, фигуре, но это, по сути своей, очень далёкий от героев витебского художника образ. У Лихачёва это только душа, что лишний раз подчёркнуто порхающими вокруг бабочками и какой-то «выбелённой» цветовой гаммой картины. Точнее- это состояние души.
Его поздние автопортреты, как правило, содержат на втором плане очень сложную и многообразную знаковую среду- приём, аналогии которому можно поискать и в западно-европейском парадном портрете XVII-XVIII вв, особенно- в книжной графике этого времени, и, да простят мне такое сравнение- в иконописи, интерес и любовь к которой сопровождал художника всю его жизнь. В то же время, вполне возможно, что это был результат собственных творческих исканий художника…
Исходя из поверхностного взгляда на сюжеты некоторых его картин, или сопутствующие этим сюжетам атрибуты, иногда в творчестве Лихачёва условно выделяют «языческий» и, несколько реже- «христианский» циклы. На самом деле для Лихачёва в творчестве такого противопоставления не существовало. Никакого «язычества», что бы там не говорили, не было и в помине. Был лишь период времени, когда художник особенно активно обращался к мифологии древних финно-угров и славян, в поисках адекватных образов и сюжетных линий для своих работ, обращённых к древнейшей истории нашего края. Истории, по большей части легендарной, тесно связанных с мифом.
Этот, якобы «языческий», а на самом деле- мифологический и легендарный контекст в его работах никуда не исчезал и в последствии. Просто художник «переработал», освоил этот массив информации, и, обогатив свой арсенал новыми образами, использовал их в дальнейшем, по мере необходимости.
С якобы «христианским» циклом всё обстоит намного сложнее.
Да, конечно, Лихачёв был верующим. Но сказать так- значит не сказать ничего. Он в своей вере был очень критичным, требовательным и неудовлетворённым человеком. Его мучили сомнения. С некоторых пор богоискательство было постоянным, внешне более и менее выраженным состоянием его души.
В своё время, в детстве, он был крещён в церкви села Волково. К моменту нашего знакомства, похоже, что все отношения с религией у него на этом и исчерпывались. Это были 80-е г.г. и уже мало-помалу начинался процесс, свидетелями которого мы все явились в 90-е годы. Экстрасенсы, астрология, уфология- всё это очень заинтересованно обсуждалось в семье Лихачёва. Сам глава семьи, с его впечатлительностью, не раз становился свидетелем появления НЛО, любил поговорить о негативной или положительной энергии, в том числе заключённой в его археологических находках, действие «энергетики» которых, по его словам, он очень чётко ощущал как стимулирующее его творчество.
Кто тогда только нечто подобное не говорил… Критичность по отношению к официальному государственному атеизму, в среде молодых представителей творческой интеллигенции, была в то время показателем безобидной, но модной оппозиционности власти, неким сигналом в знаковой системе «свой – чужой».
В тоже время православие воспринимали лишь как запретную, но неотъемлемую часть национальной культуры и истории, как духовное и культурное наследие. Сущности религиозной доктрины всё равно тогда никто толком не представлял. Всё было в новинку, любопытно.
Как произошло и почему так быстро прошло первоначальное и непродолжительное обращение семьи Лихачёвых к православной церкви – не помню, в Чепецке я тогда появлялся эпизодически. Были какие-то разговоры о, якобы, «закостенелости», «обрядовости»… в нашем общении с Лихачёвым в те годы этой теме особенного внимания не уделялось. Но вот знакомство его семьи с проповедниками, принесшими иное представление о вере, происходило уже у меня на глазах, к тому времени я уже окончательно перебрался в город.
Чтобы не углубляться в данную тему, отмечу лишь то, что жена художника нашла своё место в этой среде. Лихачёв, как выяснилось какое-то время спустя – нет.
Он неоднократно говорил впоследствии, что, по его словам, агрессивность, жёсткость, наступательность и непримиримость «новой веры», казались ему неприемлемыми. Что претензии на избранность, в которой он подозревал её последователей, казались ему оскорбительными, мало совместимыми с христианским смирением и порицанием гордыни.
По словам художника, фанатичность лидеров миссионеров, их экзальтированность на проповедях, оглушали духовно, ввергали в болезненное состояние и угнетали, ведь его болевой порог был совершенно иного уровня. Он говорил, что это самым непосредственным образом сказывалось на его живописи – пропали и радость, и цвет… Какое-то время он вообще не писал. Лихачёв переживал в следствии этого затяжной и очень сложный кризис – духовный, творческий, и, как оказалось впоследствии, ещё и семейный.
В поисках душевного равновесия, «разрядки», он тогда частенько заглядывал в рюмочку. Кстати, даже во хмелю Лихачёв никогда не отличался агрессивностью – чем больше пьянел, тем больше впадал в абсолютное благодушие ко всему и вся. Однако, после общения с клерикалами, стали появляться новые черты – выпив Лихачев всё чаще и чаще стал пускаться в «богословские» темы, словно он вёл постоянный диспут, имея ввиду каких-то своих незримых оппонентов… Это уже начинало выглядеть как явный пунктик.
В конце-концов он обратился к православию. Однако и там художник не мог найти ответы на мучившие его вопросы.
Лихачёв отдавал должное знакомым ему священнослужителям, поднявших у нас церковь с нуля, но отмечал по преимуществу их организаторский и хозяйственный гений.
Однако, он жаждал другого – большей духовности, интеллектуальной рафинированности. Ему, наверное, был бы нужен тип духовника, воплощённый в покойном Александре Мене, или, быть может в здравствующих ныне Андрее Кураеве, Кирилле Белозёрском, но таких он не находил ни здесь, ни в других местах, где ему доводилось участвовать в росписи храмов.
Он был искренне верующим человеком, убеждённо считал себя православным, но вместе с тем, художник весьма скептически относился к обрядовой стороне религии, к ритуалам – например, совершенно отрицал для себя таинство исповеди, целование, по его словам, «руки бородатого человека».
Много вопросов терзало его также в отношении связки понятий греха, покаяния и искупления.
Было ли это следствием знакомства с «новой верой», или это был какой-то выстраданный им самим свой некий «стихийный гностицизм» - не знаю. Определённо точно лишь одно – он жил в атмосфере сильнейшего душевного смятения и исканий. Можно ли его винить в том, что он искал и сомневался? Это свойственно человеку.
Выслушивая его рассуждения о вере, я, тогда, случалось, довольно легкомысленно посмеивался, говоря, что мне его вера напоминает природу молитвы бабушки Алёши Пешкова, совершенно не понимая при этом, насколько всё это было для художника серьёзно. Ему было не до смеха. Помимо привычных в его руках книг по искусству, истории, археологии, этнографии и проч., всё чаще можно было увидеть и религиозно- философскую литературу.
Конечно, некоторая зацикленность Лихачева на вопросах веры не могла не сказаться и на его творчестве. Появилось много библейских и христианских образов, но тем не менее, вряд ли справедливо выделять какой-то особый «христианский цикл» в противовес, якобы, «языческому». Картин с откровенно религиозным сюжетом, вроде посвящённой св. Стефанию Пермскому, у него было немного.
Христианские и библейские образы у Лихачёва абсолютно мирно и на равных сосуществовали с мифологическими – «языческими». К примеру, очень часто, именно так он изображал движение истории, как эволюцию духовной культуры, в виде потока людей, бредущих в процессии, в которой шаманизм и карнавальность языческого действа плавно перетекают, переплавляются в … крестный ход. Впрочем, целью религиозных исканий Лихачёва, нашедших, так или иначе, отражение в его творчестве, было конечно же не пополнение художником своего арсенала новыми образами, связанными с религиозными представлениями.
Богоискательство Лихачёва вовсе не случайно и природа его была значительно глубже. Оно появилось, как я полагаю, вследствие того, что мало-помалу рушился созданный им иллюзорный мир, такой обжитый, привычный, наполненный радостью и гармонией… Наверное, это можно было бы назвать личностным кризисом- ощущение пустоты, дисгармонии в его внутреннем мире, требовали какого-то восполнения, наполнения его новой Большой Иллюзией, несущей новое обретение гармонии с миром и с собой…
По мере того как превращался в руины созданный им в «прошлой жизни» иллюзорный мир, столь тесно связанный с его творчеством, Лихачёв пытался обрести утраченное в религии.
Но, как мне кажется, сделать ему это так и не удалось – художник не смог найти для себя в ней ни ответов на мучившие его вопросы, ни ощущения гармонии в своей душе… ничего.
Он жаловался и не раз, что в религии нет радости – один лишь страх смерти…, а он всё искал, и искал утраченное чувство радости бытия, утраченное чувство гармонии с собой и с миром, утраченное чувство полёта, чувство преодоления ограниченности во времени и в пространстве… Искал до самого конца жизни.
Он переживал серьёзнейший мировоззренческий «вывих», личностный кризис, хотя внешне это всё почти никак не проявлялось – никаких драматических фраз и картинных поз. Лихачёв всегда чурался аффектации, театральщины, публичной демонстрации чувств, не пытался вызвать к себе жалость и сочувствие посторонних людей…Ему было не до того, он был занят более существенными проблемами – пытался разобраться в самом себе и в своих взаимоотношениях с окружающим миром, как с реальным, так и с ирреальным – для него, художника, грань между ними никогда не была столь уж очевидной и непроницаемой.
Какие-то свидетельства этих исканий остались на его полотнах, преломившись, так или иначе, в творчестве художника.
Однако, это лишь след, лишь тень, той большой, трудной, мучительной и, как оказалось – саморазрушительной работы, происходившей в его душе, в его сердце. Однажды оно, сердце, не выдержало…
Это случилось так неожиданно…
Казалось, что напротив, всё в его жизни как-то начинало устраиваться. Рядом с ним была женщина, к которой он пытал самые нежные чувства. Её садовый домик, в окрестностях деревни Татарщина, превратился в «летнюю резиденцию» художника, откуда он, с этюдником, вновь, как прежде, совершал свои походы по округе.
Отныне большая часть работ Лихачёва, так или иначе была связана с этими, новыми обстоятельствами – окрестности деревни Татарщина узнаваемы на очень многих его картинах.
Казалось, что он вновь обретает душевное равновесие и, что вновь возвращаются прежние «добрые, старые времена». Глаза его снова блестели, он снова приносил какие-то фотографии, рисунки, этюды различных окрестностей этой деревни, в которых снова «видел» селища, городища и прочие свидетельства древней истории…
Как то раз, однажды, старожилы Татарщины, объясняя её название, показали Лихачёву место, неподалёку от деревни, где когда-то было озеро, ныне высохшее, на берегу которого, по преданиям, произошла битва с татарской конницей…
Нужно ли говорить о том, какой прилив эмоций это вызвало у художника?
На протяжении многих лет своей прежней творческой жизни он находился под обаянием легенды о Северюхинской часовне и озере Поганник, где нашли, по преданию, своё последнее упокоение противники в некой незапамятной кровопролитной битве… И вот, то прежнее состояние души снова вернулось…
Он словно вновь вернулся в своё прошлое… быть может, он искал в нём опору…
Нужно отметить, также, что, по словам его подруги, отношение художника к религии, с некоторых пор, стало несравненно более лояльным – он собирался вновь отправиться в Волково, в церковь, где был когда-то крещён…Возможно, что и в этом, также, как и во многом ином, замкнулся некий круг, был пройден определённый цикл. Хотелось бы верить, что многие кризисные моменты им были уже преодолены, но об этом, вероятно, знают лишь самые близкие ему люди…
Этот, последний в его жизни год, в творческом плане, оказался поразительно продуктивным. Не смотря на то, что многие его новые картины были созданы ещё словно бы на старый, «докризисный» лад, сам художник был уже иным – с более «взрослой» душой.
Отныне он в своём творчестве уже не растворялся всецело в иллюзорной, созданной им самим иной реальности. Не погружался в грёзы. Чувство полёта ушло – он ощущал под ногами реальную земную твердь.
Отныне он обращался к ушедшему иллюзорному миру лишь как к воспоминаниям – с грустью и любовью.
Его живопись становилась всё менее условной, в ней появилось больше цвета, больше вкуса к земной жизни…
Чувствовалось, что это новый вектор в развитии его творчества, по крайней мере, возможное начало его.
Однако, движение это, конечно же, не было прямолинейно-поступательным. Лихачёв шёл от достигнутого, он не отказывался от прежнего своего прошлого опыта… Может быть, поэтому некоторые его новые картины «прозвучали» словно эхо прежней живописи – в них, как и прежде - ели на лесной опушке отбрасывали на поле зубчатые «злые» тени, в которых можно было увидеть островерхие шлемы древних воинов… На иных из них, как и прежде, глинистые вымоины на зелёных лугах и косогорах приобретали антропоморфные формы сражающихся всадников…
Это был всё тот же «язык земли», столь характерный для творчества и мировосприятия Лихачёва в ещё недавнем прошлом.
Однако, всё же, вместе с тем, мир на его полотнах становился всё более и более материальным, в нём было больше земного вещества, краски звонче, плотнее…
Лихачёв сделал ещё один шаг или полшага к чему-то новому … Каков был бы конечный баланс между иллюзорным и реальным на этом, новом этапе его творчества? Мы уже никогда не узнаем. Кризис, который он столь мучительно переживал, был ещё далеко не исчерпан. Может быть, именно этим объяснимы столь резкие перепады в его настроении незадолго до смерти – ему в равной степени были свойственны и общительность, и остроумие, и в тоже время – сосредоточенность, замкнутость, «уход в себя», но с некоторых пор, колебания маятника его настроения стали приобретать всё более и более выраженную амплитуду.
Когда мы встретились, как потом выяснилось, в последний раз, он пожаловался на сердце – «что-то давит». Я посоветовал не тянуть, обратиться к врачу. Лихачёв кивнул несколько раз головой и отвёл взгляд куда-то в окно… потом сменил тему разговора, но осадок от паузы остался какой-то тревожный.
Известие о его смерти застало меня врасплох. Я понимал, что такими вестями не шутят, но…чувства не верили разуму, а разум чувствам – вокруг, в то августовское утро было столько жизни…
Ощущение ирреальности не покидало меня даже на похоронах – лежащий в гробу ничего общего с Лихачёвым не имел. Совершенно чужой облик. Оказалось, что незадолго до смерти художник сбрил и бороду, и усы, заметно пополнел…к тому же на нём был этот официальный костюм «при галстуке» - таким я Лихачёва никогда не видел…
В его мастерской, среди его картин, среди его «старинок», присутствие Лихачёва ощущалось гораздо материальнее – казалось, ещё мгновение и он войдёт…Я бы и не удивился:
- «Привет, ну ты и напугал…знаешь, там, внизу, такая толпа была…вроде как тебя хоронили – дурь-то какая!»
-«Да что ты, матушка, бог с тобой, поживём ещё…».
В.Л.Северюхин, ст.научный сотрудник
_______________________________________________________________________________________________________
Природа ирреального в творчестве Владимира Лихачёва
Публикация: Кирово-Чепецк: история и культура. Материалы научной конференции. – Кирово-Чепецк, 2006. – 62 с.
Удивительно, насколько неоднозначны бывают порой оценки творчества Владимира Лихачёва – от совершенного уничижения до столь же неумеренных вопросов.
Хотелось бы думать, что все эти «страсти по Лихачёву» вызваны не отношением к его живописи и тем более не отношением к личности самого художника, а представляют собой лишь только реакцию его критиков и почитателей друг на друга, точнее – на очевидные крайности и перегибы в оценках творчества как одной так и другой стороной.
Владимир Лихачёв никогда не отождествлял себя с последователями какой-либо концепции, но он, что совершенно очевидно, не принадлежал также и к числу «акынов» от живописи, исповедующих принцип: «что вижу – о том пою». При всём уважении к натуре, учиться у которой художник посчитал своим долгом всю жизнь, он видел в ней по преимуществу лишь исходный, строительный материал для воплощения своих образов. Реальная действительность на его холстах, в том виде «как она есть» - это самое малое из того, что он хотел изобразить. Его истинная цель – создание художественного образа, что, как известно, вовсе не означает воспроизведение прямого подобия действительности, а, скорее, предполагает своеобразное «пересоздание» её художником, что даёт ему возможность выразить в предметах и явлениях реального мира нечто большее, чем только то, что они сами по себе представляют.
Давно уже к избитым истинам относится утверждение, что произведения любого художника несут на себе печать личности их творца. Нельзя сказать, что в силу своих личностных качеств Владимир Лихачёв был или, по крайней мере, внешне выглядел как человек не от мира сего. Но он был, безусловно, выраженным интравертом, к тому же человеком очень впечатлительным, порой, болезненно мнительным. В силу ли этих, или каких то иных причин уход в свой внутренний мир, погружённость в созданную собственным воображением иную реальность было для него вполне органичным и естественным способом обретения гармонии. Это давало ему возможность отрешиться от внешних раздражителей, сосредоточиться на творческом процессе, углубиться в среду и атмосферу создаваемых им художественных образов.
Творчество и состояние погружённости в свой внутренний мир были для него органично слиты воедино – данное состояние выражалось через творчество и, в тоже время, было его необходимым условием. В этом смысле большинство картин Владимира Лихачёва, вне зависимости от жанра и сюжета, действительно представляют собой, в той или иной мере, погружение во внутренний мир их автора.
Конечно, внутренний мир это всегда много больше, чем только биография, но, всё-таки, какие то истоки следует искать, в том числе и там. «Отчина и дедина» Лихачёвых – село Усть-Чепца. От неё на сегодняшний день мало что осталось. Отчий дом, родовое гнездо, места, где прошли детство и юность – всё это поглотила городская окраина. Время и нынешняя реальность словно бы «сожрали» часть жизни. Отныне весь этот утраченный мир лишь только угадывается художником под пятой индустриального пейзажа и мог возродиться из небытия только силой воображения и лишь в том самом внутреннем мире, в котором он, художник, обретал возможность хотя бы иллюзорным образом преодолевать болезненные для себя коллизии реальной действительности и восполнять в мире воображаемом утраченное в реальности. Кстати, эта установка на поиск в явлениях реального мира его утраченного состояния будет проявляться в творчестве Лихачёва как постоянно действующий фактор. Отсюда же, вероятно, его приверженность жанру пейзажа как противопоставление изменчивой антропогенной реальности постоянству природного ландшафта. Вероятно этим же можно объяснить его враждебное отношение к всёпожирающему времени, стремление иллюзорным образом его преодолеть. Наверняка отсюда же и обращённость художника в прошлое, но не реальное, а идеализированное, более всего своими качествами напоминающее время мифа, легенды, «времена оно», «дрим тайм».
Всем тем, кто достаточно близко знал Владимира Лихачёва, было хорошо известно увлечение художника историей, археологией, этнографией, топонимикой и фольклористикой. В своих пристрастиях он был полностью сосредоточен на финно-угорском, если так можно выразиться, периоде истории Вятской земли, а также на русской колонизации Вятского края. Его очень интересовали взаимоотношения и взаимопроникновения элементов духовной и материальной культуры славян и угро-финнов. Исключительное внимание художник уделял мифологическим образам и сюжетам этих народов.
Владимир Лихачёв всецело разделял убеждение в том, что своеобразие местного русского населения на Вятке – вятчан, проистекает из того, что в глубинных основах их культуры и, даже, антропологии, лежит неразделимый сплав славянской и финно-угорской составляющих и, что благодаря этому синкретизму наша история на Вятке значительно глубже, нежели её отсчёт лишь только с прихода русских насельников на эти земли. В связи с этим же не вызывает никакого удивления выбор художником тем для многих своих полотен, обращение его именно к этому периоду нашей истории.
Но, при всей своей эрудиции, Владимир Лихачёв никогда не стремился к научной реконструкции прошлого на своих полотнах и надо отдать должное – ему счастливо удавалось избегать откровенной иллюстративности. Он очень хорошо ощущал разницу между научным рассудочным познанием и созданием эмоционально переживаемого художественного образа, а потому довольно снисходительно относился к попыткам доброжелателей от науки его поправить.
Окрестности Кирово-Чепецка были исхожены художником Лихачёвым вдоль и поперёк. Уходя на этюды, он словно вырывался в мир своих грёз. В рельефе местности, в складках земной поверхности он искал, «угадывал» то самое, утраченное предшествующее состояние мира, условное прошлое, время мифа. В оплывших склонах оврагов, в высохших руслах ручьёв в его воображении представлялись рвы и валы древних городищ, холмы становились погребальными курганами или местами, где некогда располагались языческие капища…
Это мы, зрители, видим на его пейзажных полотнах земную поверхность реального мира. А он старался увидеть под покровом земли уже ушедшее, утраченное его состояние, принадлежащее иной реальности – иллюзорной. Не случайно все пейзажи Лихачёва, выглядевшие абсолютно реалистичными по форме, объединяет одно, но очень важное обстоятельство – среди них нет просто картин с красивыми видами. Все они связаны между собой темой и содержанием – либо это местности, с которыми связаны легендарные события в истории нашей малой родины, преимущественно битвы и сражения с иноплеменниками, либо это месторасположения, по версии самого художника, реальных или предполагаемых археологических памятников.
Представления художника примерно на 2/3 не соответствовало представлениям археологов о действительном, с их точки зрения, положении вещей. Это тоже были своего рода легенды, рождённые интуитивными прозрениями автора картин. По этому поводу не стоит особенно иронизировать. Не прибегая к грязным приёмам «чёрных археологов», просто поднимая с дневной поверхности, как он их называл, «старинки», Лихачёв собрал богатую археологическую коллекцию.
Натюрморты и сюжетная живопись Владимира Лихачёва были чрезвычайно густо населены различными предметами и персонажами, несущими явно символическое значение. Причём, если библейские и христианские образы, ровно как и образы традиционной, фольклорной культуры, в общем и целом, широкой публике были всё же понятны, то многое из центральных, смыслообразующих знаковых элементов, рождённых воображением самого художника, оставалось вне понимания зрителей. Самого художника это не особенно трогало. Он вообще никогда не отстаивал однозначность толкования своих образов, справедливо полагая, что у каждого человека свой жизненный опыт, культурный уровень, эмоциональный настрой, свои ассоциации. Тем не менее, попытаемся, всё же обратится именно к авторской трактовке, хотя бы для того, чтобы её сохранить, по крайней мере, в отношении основных знаковых элементов, чаще всего представляющих собой основное композиционное и смысловое ядро.
Многие натюрморты Владимира Лихачёва включают одни и те же главенствующие элементы – сухие цветы и (или) керамика (горшок или крынка). Сухие цветы в знаковой системе художника представляют собой мумифицированное состояние этих эфемерных созданий: они никогда не увянут и не опадут, они вне времени. Сухие цветы – это материализация, опредмечивание времени. Это иллюзорное преодоление природы времени – его остановка.
В творчестве Лихачёва идея преодоления времени является одной из центральных. Для художника, увлечённого археологией, не было секретом, что керамика, даже во фрагментарном состоянии, практически вечный материал. Таким образом, это тоже знак опредмечивания, материализации времени, но не в календарном или астрономическом значении, а, скорее, в культурном его смысле – в качестве истории. Благодаря той же археологии Владимир Лихачёв очень хорошо знал, что керамика является своеобразным паспортом древних культур, а потому использовал этот образ как идентификационный признак культуры вообще.
Из литературы по этнографии ему также хорошо была известна обрядовая роль керамики, сопровождавшей человека от зачатия (битьё горшка на свадьбе или у брачного ложа) до, увы, самого последнего, погребального обряда. Разбитый горшок – метафора начала и конца человеческой жизни.
Несколько реже встречается такой элемент как ракушка. Раковина – это символ замкнутости, хрупкости и, в то же время, знак водной стихии, глубокой изначальности, практически палеонтологической древности, когда, по выражению самого Лихачёва, «мы все были с жабрами».
Все эти образы и символы широко использовались художником в его «фирменных» натюрмортах и весьма немного примеров тому, чтобы их автор обходился без этих смыслообразующих элементов, являвшихся, как правило, композиционным ядром, вокруг которого строилось остальное содержание.
Присутствие в натюрмортах столь обильной символики, в целом, довольно органичное явление, поскольку и сам натюрморт, как таковой, уже достаточно условен по своей природе – это «пересозданная», постановочная реальность, в равной мере предметная и столь же условная. Возможно, поэтому данный жанр был столь любим художником и именно в нём он был так продуктивен.
Для сюжетной живописи Владимира Лихачёва особенно большое значение имеет условность. Она является у него знаком дистанции, показателем того, что на картине присутствует иная реальность и содержание картины относится к иной, ирреальной действительности, поэтому природа и, особенно, персонажи его сюжетных работ так подчёркнуто условны, едва ли не шаржированы. Эту дистанцию художник старался сохранять особенно тщательно в тех случаях, когда сюжет картины был явно отнесён в легендарное, условное прошлое, созданное его воображением, как, например, в случае с триптихом «Страна Берегиния» или изначально нёс откровенно символический характер, как в картине «Русское поле – Божья нива».
Пока художнику удавалось сохранять хрупкий баланс между реальной действительностью и своим внутренним миром, его живопись производила удивительное впечатление своей гармоничностью. Очень многие люди перед его картинами переживали странное ощущение некоторого «дежавю», словно припоминали нечто уже виденное где-то и когда-то, но очень смутно – то ли во сне, то ли в прошлой жизни, то ли в детстве, когда бывает возможна такая сказочность. Но это уже для любителей говорить о генетической памяти…
А для самого художника всё оборачивалось куда более трагическим образом. Обстоятельства жизни, логика развития творчества, личностная эволюция не позволили «законсервироваться» в однажды обретённом состоянии. Художник и не стремился к этому – его ждал мучительный творческий поиск, обретение новых качеств в своём искусстве. Он уже уходил от прежней манеры живописи, уходил мучительно и не просто, пробуя себя то в том, то в другом, часто возвращаясь к достигнутому, но уже без прежней естественности и органичности.
Художник переживал серьёзный творческий и личный кризис, в том числе, и некий своеобразный кризис идентичности. Не случайно им было так много создано автопортретов в это время. То новое, что он искал, возможно, было уже на пороге. Но ему было не суждено обрести ни законченности, ни системности, вызреть во что-то ощутимое. Смерть прервала этот процесс…
В.Северюхин ст.научный сотрудник

Мифологические и фольклорные образы и сюжеты
в живописи Владимира Лихачёва
Публикация: Жизнь и творчество. Книга воспоминаний о Владимире Лихачеве. Издание второе. Проект музейно-выставочного центра города Кирово-Чепецка. - Киров, Лобань, 2007. – с.16-32.
Отличительной чертой, присущей живописи Владимира Лихачёва, отмечаемой всеми, кто хоть сколько-нибудь был знаком с творчеством этого художника, является очевидная связь содержания очень многих его работ с образами и сюжетами, навеянными мифологией и фольклором древних финно-угров и славян.
Причём, данная связь присутствует не только в его сюжетной живописи – она прослеживается также и в целом ряде работ, представляющих иные жанры, такие, например, как пейзаж или натюрморт.
Вместе с тем, сколько бы обильно не было замешано его творчество на мифологическом и фольклорном материале, Владимир Лихачёв никогда не был лишь иллюстратором мифологических и фольклорных текстов. Для творческой манеры этого художника использование фольклорных образов и сюжетов в их традиционной трактовке – в том виде, в котором они представлены непосредственно в соответствующих источниках, было явлением достаточно нехарактерным.
Связь его творчества с мифологией и фольклором, с их сюжетами и образами носила, как правило, гораздо более глубокий и сложный характер. Она практически всегда была опосредованной и могла, к примеру, строиться исключительно на ассоциативном или даже лишь на эмоциональном уровне...
И мифология, и фольклор для Владимира Лихачёва никогда не были просто локальной темой, одной из многих, в ряду прочих. Постоянное присутствие мифологических и фольклорных образов в его живописи проявлялось как следствие и как органичное свойство присущего ему особого творческого метода, природа которого предопределена действием множества факторов, из которых в качестве важнейших можно выделить не только бросающуюся в глаза увлечённость Владимира Лихачёва древней историей вятской земли, но также, равным образом, и личностные качества самого художника, и его мировоззренческие установки.
Увлечение Владимира Лихачёва историей никогда не носило отвлечённый характер. Его интересы всегда были чётко локализованы и территориально, и хронологически. Они целиком и полностью были сфокусированы исключительно на древней истории собственной малой родины – старинного села Усть-Чепца и его ближайших окрестностей, которые полностью можно было обойти, не особенно торопясь, в течение одного дня.
Следует подчеркнуть особо, что постижение истории родного края у Владимира Лихачёва изначально не имело «книжного» характера. Восприятие и «видение» истории своей малой родины происходило у него с младых ногтей, почти исключительно под мощным воздействием местных фольклорных источников – легенд, преданий, былей и сказов, впервые услышанных им ещё в детстве и собираемых впоследствии в течение всей жизни.
Какая-либо научная литература по древней истории того крохотного участка земной тверди, с которым он так остро ощущал своё кровное родство, была ему тогда либо недоступна, либо таковой не существовало вовсе. Поэтому «фольклорное» восприятие истории своей малой родины, видение её как бы преломленной сквозь призму фольклорных и мифологических образов и сюжетов стало для художника явлением очень органичным и естественным. Именно фольклорные памятники, с их яркой образностью, на протяжении всей жизни являлись для Владимира Лихачёва той питательной средой, которая стимулировала его собственные творческие импульсы.
Особое место среди разнообразного фольклорного материала, в котором художник обретал сюжеты и образы для своих картин, занимали фольклор и мифология местных финно-угорских народов. Подобные предпочтения объясняются тем, что Владимир Лихачёв был убеждённым сторонником той точки зрения, согласно которой в русском эпосе вообще, а в старожильческом русском населении Вятки – вятчанах, в особенности, финно-угорская составляющая, по меньшей мере, ничуть не уступала собственно славянской.
Художник постоянно выискивал, находил и всячески подчёркивал присутствие у местного, коренного, русского населения соответствующих признаков, будь то в материальной или духовной культуре, в антропологии, в топонимике. Признаков, свидетельствующих о том, что, в значительной части своей, русские на Вятке представляют собой либо ассимилированное местное финно-угорское население, либо, по крайней мере, доля финно-угорской крови у коренных вятчан настолько велика, что уже только одно это позволяет связывать начало их истории не только с периодом русской колонизации вятской земли, а с гораздо более глубокой древностью.
Для Владимира Лихачёва обращение к этой, древнейшей, истории своей малой родины было связано с погружением в такие глубины времени, где едва ли не единственной формой её постижения могло быть только невероятно изощрённое воображение художника. Поскольку древняя история финно-угров была бесписьменной, естественным образом, в качестве «строительного материала» в воссоздании этой, давно канувшей в прошлое, картины мира, помимо «бессловесных» археологических памятников, могли стать для него лишь только яркие, порой фантастические, полные скрытого смысла, мифологические и фольклорные образы, сохранившиеся в позднейшей устной традиции местных финно-угорских народов. Скудность подлинных исторических фактов, на которые мог бы опереться художник, только стимулировала полёт его воображения, вынужденного восполнять неведомую ему реальность, пусть фантастическими, но зато единственно подлинными «артефактами» духовной культуры, сохранившимися в фольклорных памятниках.
Сложность данной работы заключалась ещё и в том, что древние мифологические и фольклорные образы необходимо было творчески переработать – «перевести» из словесного в изобразительный формат, по возможности адаптировав их для восприятия современниками.
Очень важно подчеркнуть, что Владимир Лихачёв, как правило, никогда не стремился к созданию реконструкций реальных исторических событий в стиле великих русских мастеров исторического жанра, будь то Суриков или Репин. Он также почти никогда не пытался проиллюстрировать фантастическую образность фольклора в подчёркнуто реалистическом формате, что было свойственно, например, Виктору Васнецову.
Владимир Лихачев, напротив, в большей или меньшей степени, старался внести в свои картины определённые элементы условности, давая понять, что действие происходит, либо происходило за рамками реального времени, в ином временном измерении, в иной реальности...
«Историческая реальность» на его холстах по природе своей тесно связана с фольклором или мифом, она насыщена мифологическими или фольклорными образами и сюжетами, она, в большей степени, продукт воображения художника, поэтому было бы очень большим упрощением искать в картинах Владимира Лихачёва какой бы то ни было реальный историзм.
В них, скорее всего, присутствует не факт истории, а чувство истории, эмоциональное переживание избранной темы, а вовсе не рассудочные «изыскания», реконструкция и иллюстрация какой-либо сцены реальной истории.
То «прошлое» и та «древность», присутствием которых отмечены многие его работы, это в большей степени своего рода «квазиистория», миф, созданное воображением художника некое условное прошлое, имеющее к реальной истории, к реальному прошлому такое же отношение, какое театральная сцена имеет к реальной жизни.
Это ненастоящее прошлое на самом деле есть особое идеальное состояние времени, время иной, иллюзорной реальности – время мифа.
В устной традиции время мифа проявляется как некий иллюзорный, утраченный ещё в незапамятной древности «золотой век» - особое, идеальное состояние мира, в котором тот якобы пребывал изначально. Приблизительным аналогом этому мифологическому времени являются такие, хорошо известные из волшебных сказок, формулы как «давным – давно», «при царе Горохе» и прочее.
Природу того «условного прошлого», которое присутствует на полотнах Владимира Лихачёва, со временем мифа объединяет множество общих черт – та же возможность проявления ирреального в самых безудержных формах, та же отнесённость действия к временам седой древности, где всё подчинено законам иной реальности.
То, что Владимир Лихачёв переносил содержание своих картин в это мифическое «условное прошлое», позволяло ему самым радикальным образом преодолевать все ограничения, связанные с соответствием жёстким рамкам реальности, приобретая абсолютную свободу в использовании самых разнообразных художественных образов и приёмов их воплощения. При этом принципиально было не важно - имели эти образы и сюжеты фольклорную основу или были авторскими порождениями.
И те, и другие одинаково свободно укладывались в ткань этого «условного прошлого», становясь элементами собственного авторского мифотворчества художника Владимира Лихачёва. Действительно, тот творческий метод, который так часто использовал художник, с полным на то основанием можно было бы определить как мифотворчество, как создание мифа. Точно так же, как и «классический миф», этот творческий метод Владимира Лихачёва не был, по природе своей, порождением какого-либо рассудочного, умозрительного акта, реализацией какого-либо концептуального выверта.
В какой-то степени формирование такого творческого метода было следствием действия самой логики фольклорного восприятия истории, нашедшим своё высшее воплощение в столь своеобразной форме. Однако, в значительно большей мере, таким прихотливым образом проявлялись собственные личностные качества художника, его мировоззренческие установки, в полном соответствии с известными строками о том, что «как мы дышим – так и пишем...»
В этом случае также достаточно велика была роль стихийного – бессознательного, находящего своё выражение в обретении особого эмоционального состояния, погружение в которое было для художника одним из необходимых условий творчества.
Это необязательно было связано лишь с работой у мольберта – художник вообще обладал способностью грезить наяву, бродя, например, по излюбленным окрестностям города, представляя их себе в неком «первобытном» состоянии, перенося видимое всем и невидимое никому, кроме него, в мир своего «условного прошлого», где его изощрённое воображение создавало самые фантастические видения, отблески и тени, которые мы имеем возможность наблюдать на его холстах.
Подобный, очень тонкий психологический настрой был своего рода душевным бальзамом или ... наркотиком, неким «золотым туманом», куда необыкновенно тонкий, ранимый, порой болезненно мнительный художник мог «уйти» из реальной действительности. Важная роль в обретении этого состояния принадлежала необычайно сильно переживаемым ностальгическим моментам, связанным ещё с детскими и юношескими грёзами, в которых, кстати, фольклорное восприятие истории имело достаточно заметное присутствие.
Ещё более существенную роль играло стремление к обретению душевного, психологического комфорта, преодоление, пусть и иллюзорным образом, дисгармонии в отношениях с реальной социальной и природной действительностью, что вообще-то изначально является родовым свойством мифологии, её сущностью и её основной социальной функцией.
В созданной им самим иной реальности, в «условном прошлом», художник приобретал совершенно иные качества; там он становился всемогущим Творцом, чувствовал себя демиургом. Языком своих образов, понятных только ему одному, он мог выговориться о самом сокровенном, совершенно не беспокоясь о том, что тайна его исповеди будет когда-либо раскрыта более тех пределов, которые определит он сам.
Это было очень сложное явление, и вряд ли все тайны, вся «механика» творческой кухни Владимира Лихачёва когда-либо будет раскрыта полностью.
Нам, в большей или меньшей степени, доступно видеть лишь внешние формы проявления этой работы души, из тех, что нашли своё воплощение на его полотнах. Однако без понимания того, что лежит в основе используемого художником арсенала сюжетов и образов, вряд ли возможна адекватная оценка живописи Владимира Лихачёва в целом. Особенно это касается самых сложных сторон содержания его творчества, тех, что связаны с миром ирреального, где самая значительная роль изначально принадлежала сюжетам и образам мифологического и фольклорного происхождения.
Формы и методы реализации мифологического и фольклорного материала в тех или иных образах и сюжетах можно попытаться проследить на примере достаточно известных работ В.Лихачёва, таких как «Начало», «Асаба», «Ушкуйники на Чепце» и прочих им подобных. Сюжеты вышеназванных работ полностью основываются на фольклорном и мифологическом материале, но вместе с тем они также демонстрируют совершенно отличную, во многом, полярную идеологию его воплощения. То, что эти картины избраны в качестве примера, есть следствие законченности и цельности реализованных в них противоположных методов – в них наличествует, как бы сказали естественники, «чистота эксперимента». Б?льшая часть прочих работ Владимира Лихачёва, из числа тех, в сюжетах и образах которых присутствуют мифологические и фольклорные мотивы, находятся между этими крайними подходами, мифологические и фольклорные образы в них используются по большей части иначе – фрагментарно, отдельными элементами, в качестве знаков или символов.
Коль скоро одно из тех полотен, к которым нам предстоит обратиться, имеет такое название как «Начало...», логично было бы именно с него предпринять анализ того, каким образом воплощался художником мифологический и фольклорный материал.

«Начало. Сотворение мира из яйца утки – пеганки»
Данная работа в творчестве Владимира Лихачёва занимает особое место, ибо художник довольно редко выступал в несвойственной ему роли иллюстратора мифологического или фольклорного текста, без того, чтобы не подвергнуть его глубокой авторской переработке и переосмыслению, достаточно далеко уходя при этом от изначальной фабулы.
Условно такой подход, отличающийся минимальной авторской правкой сюжета, можно обозначить как непосредственно иллюстративный. Сюжет картины «Начало. Сотворение мира из яйца утки-пеганки» в основе своей имеет широко распространённый в древности у многих финно-угорских народов космогонический миф. В композиционном строе картины художник не мудрствовал лукаво, предприняв попытку решить все задачи просто и прямолинейно, «в лоб».
В центре – гигантское треснувшее «мировое яйцо», из которого проросло в небо «мировое древо» и проистекла некая первоматерия, из коей создано всё сущее. Действие сюжета, естественно, отнесено в мифологическое время, в котором однолинейность и однонаправленность времени отнюдь не аксиома – в данном случае одновременно присутствуют и начало, и процесс рождения мира, и результат этого процесса – небеса в лохмотьях изначального хаоса, вода, флора и фауна, люди, уже успевшие обжиться – построить свои немудреные жилища, и прочее. В то же время процесс ещё далёк от завершения – на переднем плане, на зеленом фоне, из «земного праха» проявляются антропоморфные и зооморфные фигурки цвéта первозданной глины – будущие обитатели этого мира.
Достаточно условная цветовая гамма, притом, что мы знаем Владимира Лихачева как автора очень тонких, лиричных, воздушных пейзажей, свидетельствует о том, что мир в данный момент находится в ещё «сыром» - первозданном состоянии. Известная условность пейзажа призвана подчеркнуть, что действие разворачивается в мифическом условном прошлом, за пределами реальной действительности и реального времени.
В этой работе художник решает для себя достаточно сложные задачи по «переводу» текста мифа из словесного в изобразительный формат. Он пытается передать пережитое им впечатление, которое несёт с собой дух этой мощной архаики. Однако в данном случае Владимир Лихачёв лишь следует за сюжетом мифа, а не выступает в роли его творца, что в целом малохарактерно именно для этого художника, чья живопись, по большей части, является своеобразной формой саморефлексии.

«Асаба. Спящий великан»
Картина «Асаба. Спящий великан», на первый взгляд, также выглядит как иллюстрация к известному удмуртскому фольклорному тексту. Однако художнику всё же удалось, буквально «пройдя по лезвию ножа», избежать откровенной иллюстративности. На самом деле формирование этого образа имело долгую предысторию, и он имеет достаточно сложную, синкретичную природу.
Изначально данный образ формировался под воздействием местных фольклорных источников, бытовавших среди старожильческого русского населения села Чепца и окрестных деревень. Владимир Лихачёв с детства неоднократно слышал передаваемые изустно легенды о том, что в этой местности, за много вёрст друг от друга, некогда обитали богатыри, отличавшиеся исполинской силой и статью. Потехи ради эти исполины якобы перебрасывались друг с другом дубинками. Легенды достаточно определённо увязывали места обитания древних богатырей либо с современными населёнными пунктами, либо топографическими признаками. Владимир Лихачёв, в свою очередь, был убеждён, что они, кроме того, совпадают и с предполагаемыми или реальными археологическими памятниками – древними городищам и могильниками.
Он был уверен в том, что в образах этих могучих богатырей воплотилась в фольклорных источниках память о наших далёких предках, сверхестественные качества которых есть лишь простое следствие иррациональной природы мифа. Пейзаж, на фоне которого изображён Асаба, вовсе неслучаен и, несмотря на известную его условность, что подчёркнуто избранной техникой, весьма напоминающей гризайль, вполне реален – именно в этом месте легенды помещали одного из исполинов.
Удмуртские фольклорные источники дали имя этому великану – Асаба. Владимир Лихачёв был потрясён, узнав, что великаны из удмуртского фольклора тоже имели обыкновение перебрасываться друг с другом палицами – это лишний раз подтвердило его приверженность теории о культурном и кровном родстве «коренных» русских вятчан и финноугров. Особенно большое впечатление произвела на него легенда о том, как закончился век великанов.
Однажды к матери-великанше прибежал сынишка, крича, что он поймал дятла, стучавшего в лесу. В ладошке сына мать обнаружила дровосека и велела отпустить его, сказав, что это не дятел, а человек, и пройдёт время, когда весь мир будет принадлежать людям. На вопрос сына о том, что же станет с ними, великанами, мать ответила: «Мы уснём, превратимся в холмы и горы». Художник был поражён спокойной мудростью и простотой отношения к переходу в небытие – к этому вопросу он всегда относился с болезненным вниманием.
Однако самый важный момент для Владимира Лихачёва в этом сюжете заключался в том, что мифологические персонажи после того, как время их «бытия» заканчивалось, превращались в элементы пейзажа, присутствуя в таком виде уже в нашей современной действительности. Во многих картинах Владимира Лихачёва характерные черты того или иного пейзажа, складки местности или даже просто их топонимика, как правило, были связаны с неким их изначальным первобытным состоянием, в котором они пребывали во времена условной, мифической древности.
Художник мог «видеть» в, казалось бы, естественных складках местности валы и рвы древних городищ, языческих капищ. Толчком к такому взгляду на пейзаж могло послужить даже простое созвучие названия какой-либо местности, вызывавшее цепную реакцию соответствующих ассоциаций. В основе большинства пейзажных работ присутствует именно такое прочтение.
Поэтому образ великана, становящегося элементом пейзажа, частью картины окружающего мира, был для художника очень близким и волнующим. «Мы не умрём совсем, мы только изменимся». У Владимира Лихачёва элементы пейзажа достаточно часто содержат антропоморфные признаки. К примеру, имеющие антропоморфный облик глинистые размывы на фоне зелёных склонов берегов или холмов стали вообще едва ли не отличительным «фирменным знаком» художника, кочуя из одной его работы в другую.
В «Асабе» воплотилось очень многое из того, что волновало Владимира Лихачёва: связь и преемственность традиций в духовной культуре русских и финноугров, болезненные для него «вечные вопросы» о том, что ожидает нас там, за границей бытия, и как надлежит встретить это неизбежное. Кроме того, остро переживаемое художником ощущение, что в окружающей действительности, в пейзаже всё-таки присутствует отражённое эхо прошлой жизни, свидетельствующее о том, что ничто не исчезает безвозвратно в никуда во тьме веков.
В противоположность тем работам, в которых мифологические и фольклорные образы и сюжеты присутствуют абсолютно определённо, явно и очевидно, в таких полотнах Владимира Лихачёва как «Небеса» или «Ушкуйники на Чепце» реализация осуществлена далеко не так прямолинейно.

«Весна»
В картине «Небеса» мифологический или фольклорный источник внешне никоим образом не даёт о себе знать. Всё выглядит как вполне обычный для Владимира Лихачёва пейзаж – убогие, потемневшие от сырости домишки села Усть-Чепцы, голые кроны тополей, простор заречных далей, низкий горизонт, небеса с вздыбившимися ввысь облаками, движение которых обозначено небольшими размашистыми мазками… Ничто не говорит о том, что в основе сюжета данной работы лежит текст мифа, из разряда «этимологических», само собой разумеется – финно-угорский.
«Когда-то давным-давно небеса располагались так низко над землёй, что для болезней, горя и несчастий просто не было места. Люди были счастливы. Но однажды некая женщина постирала бельишко и не нашла более лучшего места, нежели небеса, где бы можно было разложить его сушиться. Небеса оскорбились, разобиделись и взмыли вверх, а в образовавшееся пространство хлынули болезни, горе, несчастья, смерть. Вот так люди стали несчастливыми», - повествует миф.
Для Лихачёва в этом сюжете главной является тема экологии духовных ценностей – высших, «горных», «небесных» по отношению к земному, точнее – приземлённому, обыденному. Пренебрежение к этим ценностям чревато тяжкими последствиями, бездуховность ведёт к несчастьям. Таким образом трактует сюжет мифа художник. Однако буквальной иллюстративности, «картинки» к тексту мифа здесь нет. Плакатность, морализаторство, лозунг, проповедь, призыв были всегда чужды живописи Владимира Лихачёва. В данном случае сюжет и образность мифа в значительной мере присутствуют незримо, в весьма опосредованном виде, как творческий импульс, как идея, настроение, общая атмосфера картины.

«Ушкуйники на Чепце»
Сюжет другого произведения – «Ушкуйники на Чепце» связан с местными фольклорными источниками. К данной теме Владимир Лихачёв неоднократно обращался и прежде. В основе сюжета ранних его работ, не вышедших, по большей части, за рамки предварительных этюдов, лежал авантюрный фрагмент текста небезызвестной «Повести о земле Вятской». В этих опытах было достаточно много иллюстративности, агрессивной динамики – один только внешний вид ушкуев, более всего напоминавших дракары викингов, чего стоил!
Ничего этого в окончательном варианте нет. Перед нами достаточно реалистичный, безмятежный пейзаж, представляющий собой искусственно «состаренный» на несколько столетий вид на излучину реки Чепцы перед Каринским мостом. Вместо многоэтажек микрорайона Боево – лес. На водной глади реки – три утлые лодчонки. На берегу, на переднем плане, несколько крупных камней – след древнего ледника и вороньё… На втором плане, правее – фигурка белой лошади и пастух со свирелью. В целом идиллическая, хотя и несколько тревожная атмосфера. Добротный, вполне реалистический пейзаж, быть может, выглядящий, самую малость, не совсем законченным. Но где же ушкуйники? Их не сразу и заметишь – некоторое скопление красных и белых точек в глубине картины, вот и всё. Надо обладать незаурядной фантазией, чтобы представить себе, что там происходит. Высадка на берег? Сражение?
Владимир Лихачев от местных старожилов неоднократно слышал легенды о произошедшей в старину, где-то в окрестностях города битве русских с иноплеменниками. Этот бой якобы и дал имя сначала деревушке, а потом и выросшему рядом с ним городскому микрорайону «Боево». Достаточно редкая версия этой легенды указала место высадки русских, что и было с документальной точностью зафиксировано художником на этом полотне. Владимир Лихачёв уклонился от изображения батальной сцены, картина не отмечена какими-либо очевидными признаками исторической эпохи, здесь отсутствует столь характерное для его подобных полотен перенос действия в условное прошлое время. Здесь нет иллюстративности. Фольклорный памятник – легенда, скорее, подразумевается автором, нежели обнаруживает явное присутствие. К этой картине было бы вполне применимо то определение, которое молодой Н.К.Рерих давал многим своим полотнам – «Это в некотором роде исторический пейзаж».
И действительно, в данном случае Владимир Лихачёв предпринял в своей картине «Ушкуйники на Чепце» попытку передать эпическое настроение через саму атмосферу пейзажа, наполненного тончайшим флером былинности. Какие-то батальные сцены могли бы только разрушить ощущение вневременности и эпической недвижности, присущих легенде. «Исторический пейзаж» (если использовать определение Н.К.Рериха) был призван взять на себя ту роль, которую в других работах Владимира Лихачёва, также построенных на использовании мифологических и фольклорных сюжетов, должна была исполнять акцентированная условность мифологического времени – «условное прошлое».
В другой его работе, о которой речь шла ранее, - «Небеса», миф вообще присутствует только в сознании и настроении художника. Ни в названии, ни в сюжете картины нет ничего, что можно было бы хоть как-то связать его с ним. Миф дал «только» творческий импульс, «только» цепь ассоциаций и эмоциональный настрой, выразившиеся в общей атмосфере картины, где вовсе не исторический, а вполне современный пейзаж отражает столь остро прочувствованную художником вневременную пустоту бездуховного существования.
Присутствие мифологических и фольклорных образов и сюжетов в творчестве Владимира Лихачёва гораздо более значительно, нежели это можно себе представить, судя только по тем работам, где фантастическая образность выведена в самом акцентированном виде. Однако и в самых «обычных» пейзажах, натюрмортах и автопортретах, не говоря уже о сюжетной живописи, мифологические и фольклорные образы и сюжеты в той или иной степени присутствуют необыкновенно часто, пусть даже и в скрытом, «латентном» состоянии. Спектр проявления мифологического и фольклорного материала, приёмы и методы его использования были у Владимира Лихачёва необычайно многообразными – от почти буквальной иллюстративности и использования его в виде отдельных знаковых, символических элементов до тончайших эмоциональных нюансов, никак не обозначенных внешне какой-либо фантастической атрибутикой. Подобная насыщенность творчества Владимира Лихачёва мифологическими и фольклорными образами была предопределена глубинными, внутренними, личностными факторами, вследствие чего мифологизм и фольклорность, присущие живописи этого художника, представляют собой явление значительно большее, нежели только особый, локальный творческий метод.
В.Л.Северюхин, старший научный сотрудник
«ДУХ МЕСТА» В ГРАФИКЕ В. ЛИХАЧЕВА
Публикация: Жизнь и творчество. Книга воспоминаний о Владимире Лихачеве. Издание 2-е. - Киров, Лобань, 2007. – с.32-36.
Среди живописных произведений Владимира Борисовича Лихачева, хранящихся в фондах Кирово-Чепецкого музейно-выставочного центра, есть немало графических и акварельных листов раннего периода творческой жизни художника – 1970-80-е годы. Удивительно, что почти все они были для художника не эскизами к последующим живописным работам, а самостоятельными станковыми произведениями пейзажного либо портретного жанра. Таким образом, можно считать, что рисунок для Владимира Лихачева – не рабочий, вспомогательный материал, каковым был для многих вятских живописцев, а отдельный вид искусства со всеми своими достоинствами. Об одном достоинстве и, наверное, главном из них хорошо написал ведущий английский живописец XIX века Эндриен Хит: «Задача живописи в том, чтобы создать эмоциональное переживание, а в рисунке эмоционален не сюжет, а то, что идет от вас». Что же заставляло Лихачева менять любимые кисти и краски на карандаш и сангину?
Первопричину надо искать в увлечениях и пристрастиях художника, которые сводились к духовным истокам и традиционным культурам своего народа, к истории места, где родился, истории своего рода. Он глубоко ощущал связь с родной землей и северной природой, ставшие излюбленной темой всего творчества вятского пейзажиста. Но не только близкая ему среда и пространство стали предметом его любви, истоки более глубинной связи с природой следует искать во внутреннем мире художника. При всем уважении к натуре он видел в ней лишь инструмент, исходный строительный материал для воплощения своих замыслов. Графика как раз тот вид изобразительного искусства, который позволяет автору, используя свой арсенал знаний по философии, археологии, топонимике, провести подробную реконструкцию прошлого сел Усть-Чепцы, Северюхи, Утробино, Никульчино, Кривоборье (Малый Конып), где находил он археологические «старинки» и пополнял свою «сокровищницу» у себя, в хрущевке. В этих местах, по его мнению, располагались, городища, селища, древние могильники.
В рисунке «Язык эемли» автор рассказывает о находках при раскопках Кривоборского городища, памятника раннего средневековья, начала периода русской колонизации края. Выгнутой линией горизонта, располагающейся в сантиметре от верхней кромки листа, становится край котлована, по которому уверенно и твердо шагает человек – осязаемое, связующее звено между ушедшим временем и сегодняшним. Время условно, пространство необъятно, мощь земной тверди ошеломляюща. Весь лист заполняют земные недра, скрывающие свои богатства: обломок костяного горпуна, наконечник копья, солярная бляшка, шумящие подвески-обереги, стеклянные бусы, бляха от ремня, лезвие ножа, осколок черепицы. Все эти реальные предметы ушедшей эпохи для художника превратились в древние символы духовной жизни наших предков. Язык рисунка логичен и рационален. Широким плотным штрихом земная плоть хоронит свои «диковины», унося с собой тайну каждой из них. Не смотря на видимую устойчивость и монументальность композиции, она вся во внутреннем движении. Острую динамику ритма создают линии и пятна, незаполненные фрагменты листа. Личность созерцателя постепенно исчезает и только недра земли охватывают всецело художника.

Аналитический метод мышления В. Лихачева раскрылся в рисунке «Деревня Утробино», выполненный сангиной. На рисунке присутствует несколько уровней зрения. Сложное построение, основанное на чередовании планов, контрасте вертикалей деревьев, домов и горизонталей дорог и равнин, создает динамичную панораму обширной земли, располагает к раздумьям, спокойному созерцанию. За видимым спокойствием скрывается иной подтекст. Автор слагает свою песню, где повествует об истории этого места вполне реалистическими средствами, переводя наблюдения на графический язык.

На переднем плане с книгой, среди густых трав, расположился сам художник, разбудив свом присутствием любопытство местных жителей. Самый крупный и жизненноважный объект – кузница-литейка в виде приземистого бревенчатого домика – выделена плотным пятном, рядом, ниже под навесом - родничок, источник воды для всего живого, куда торопятся с ведрами двое. Чуть выше, в самом центре композиции стоит старинное двухэтажное каменное здание сельской школы. Вокруг пришкольное небольшое хозяйство. Здесь время конкретно, привязано к житейским условиям, пространство бытийно. Но вот, выше, в левой части композиции, глаз художника замечает небольшую запруду, от которой пастухи на лошадях отгоняют стадо коров. Это озерцо в старину называлось Поганник (с древнего «поганус» – язычник), где состоялась битва с врагами. Завершается рисунок в верхнем правом углу Воскресенской часовней, построенной на братской могиле новгородцев, павших в бою с «погаными» в 1182 году, и простоявшей до 1929 года в деревне Северюхи. Этот исторический факт лег в основу живописного этюда Лихачева.
Осваивая визуальную точность местности, автор предельно сосредоточен. Кажется, что сознание преобладает над чувствами. На самом деле, смешивая явления реального мира с миром прошлым, художник показал, как призрачна граница между ними и как велика в искусстве роль подсознательного. Под дневной поверхностью земли Лихачев видел ее истинную историю в образах древнего, как миф, мира наших предков, славянских, финоугорских и иных древних кровей и через них приближался к истинному смыслу самосознания.
Композиционное построение пространства в рисунке «Стойбище» раскрывает внутреннее содержание художественных образов картины. Смысловой центр в ней – шатер из бивней мамонтов, крытый шкурами и дерном - несет идею единства и защиты древнего племени от злых сил. Все объекты - черепа животных, длинные вогнутые кости, силуэты камней, женские фигуры - примитивной архаичной формы. Каждый из них носит знаковый характер, что характерно для языческих племен. Размеренный ритм бивней на переднем плане совпадает с направлением дыма из древних хижин, что упорядочивает и уравновешивает композицию. Погружаясь в глубины воссоздаваемого в своем воображении «прошлого», Лихачев не стремится к научной реконструкции древнего жилища на основе научного анализа. Он создает свой образ – Дух места, все ближе приближаясь к музыке, поэзии и особенно к мифу, мифологии. Цель художника – создание эмоционально-переживаемого образа, высшее проявление которого – символ.

Старинное село Усть-Чепца – излюбленное место художника. Это его малая родина, здесь его корни. Здесь, в родной «художке» Володя учился и работал. Отсюда его проводили в последний путь. С детства любил юный художник слушать легенды и предания местных сторожилов о заповедных местах края и делать зарисовки таинственных берегов Чепцы и Вятки. И то, что осталось от села стало для него последним воспоминанием о счастливом детстве. Поэтому так много живописных картин и этюдов с видами Чепцы в коллекции авторы.
Среди графических работ этой тематики хочется выделить «Прощание с прошлым». Перед нами два времени новой и старой Чепцы: наступающий город и умирающая деревня. Композиция читается слева направо: новостройки пятиэтажек подминают под себя деревянные избы старинного села. Избушки едва видны в правой части листа. В центре, на переднем плане огромной глыбой водрузились «памятники» древнего мира, освободившись от плена земных глубин. Мощные образы-формы, символы прошлого - глиняный горшок, череп хищного зверя, бивни мамонта - собирают композицию в центре. Теперь автор смотрит глазами археолога, используя не столько чувства, сколько знания о древней находке. Важно схватить характер объекта, как и его контур. У каждого предмета есть своя сила тяжести, своя внутренняя динамика. Карандаш стремится вперед, описывая как упругие корни деревьев изгибаются, толкают, падают. Художник рисует быстро непрерывной линией, не отрывая карандаша от бумаги. Внутреннее движение неподвижного предмета мы ощущаем в своем теле, что придает рисунку жизненную силу. Графика становится плоскостной, декоративной, напоминающая некий гобелен, на котором прочитывается явный «подтекст» - бесконечное чувство утраты очень дорогого и родного тебе прошлого, погибающей старой Чепцы.

Искусство, как и религия, имеет силу убеждения и влияет на человека своими специфическими средствами, средствами прекрасного. Об искусстве как религии будущего вели беседы художники еще в XIX веке, в частности Шишкин и Куинджи. Лихачевские отвлечения в рисунке «Вид на городище» - это поиски вечной, космической красоты, обращенной к земле, к миру людей, которые явились некоторой попыткой создать религию прекрасного и вечного. Здесь человек оказывается созерцателем грандиозного мира природы. Широкая панорама мирового пространства потрясающе монументальна и значительна. Медленный и плавный ритм придает спокойную величавость. Кто мы во времени у истоков своих? Только путем эмоционального постижения, сокровенного переживания, создания и реконструкции Мифа, его образов возможно познать самое себя. Если не к поискам религии, то к проблемам философическим приближается автор, используя при этом все средства и способы рисунка – штрих, линию, пятно и смешивая технику – карандаш, пастель, уголь. Он рисует свое последнее пристанище, свою мечту – место, где он хотел бы жить и умереть. И, наверное, здесь сейчас его душа. Ведь здесь есть все: лес и овраги – защита от врага, река – кормилица, заливные луга - стойбища, холм – курган и вечность…Нет ни начала, ни конца – время циклично, как у предков. Нет смерти и ничто не прекращается, колесо жизни бесконечно… Безвременность как озарение пришло к художнику. А освобождение от власти времени - есть гениальность.

В наши дни, когда искусство всеми доступными и недоступными средствами, пытается вырваться за грани бытия, Лихачев переступил эту грань просто, естественно, ничего не деформируя и не ломая. Не отказываясь ни от одной самой малой подробности жизни, он поведал о бессмертии каждого из нас, каждого мгновения нашей судьбы, каждого цветка, каждого плода земного. Всякое событие жизни человека, всякий его возраст, пройдя остается и пребудет вечно – это чувство, рожденное творчеством Лихачева, наполняет душу благодарностью к художнику. И понимаешь, живопись его – все равно, что хранитель дома, Отчего дома - старой Чепцы, где выросли все мы.
Г.А.Чапурина, зав.выставочной деятельностью
Памяти художника
Начало 1950-х годов. На высоком берегу Вятки раскинулось старинное село Чепца. Оно ещё не стало городом, но уже жило ожиданием приближающихся перемен. Небольшие улочки с разбросанными на них строениями, будучи обречёнными на исчезновение, ждали своей печальной участи. И всё же некоторым из них удалось сохраниться до сегодняшнего дня. Одна из них — улица Революции. Хотя старых строений на ней почти не осталось. Нет и дома под номером 14, в котором 21 декабря 1952 года в семье Бориса Васильевича и Людмилы Афанасьевны Лихачёвых родился сын Владимир. Здесь на «односторонке», так именовалась в просторечии часть улицы, где жили Лихачёвы, прошли детские годы будущего художника. Он рос обыкновенным ребёнком. Наравне со всеми предавался детским забавам - гонял с пацанами футбольный мяч, играл в лапту и чику, летом пропадал на реке... Со сверстниками исходил все окрестности старинного села. Наверное, в этих походах и стали зарождаться в душе Володи первые ростки большой любви к малой родине, к её дивному прошлому.
Семья Лихачёвых, даже по сельским меркам, считалась большой. К рождению Владимира, у Бориса Васильевича и Людмилы Афанасьевны было уже трое детей - сын Геннадий и две дочери — Татьяна и Ольга. В пятидесятые годы глава семейства работал инженером технического контроля в местной колонии. Там же штамповщицей трудилась его супруга. С детьми нянчилась бабушка по материнской линии Анастасия Васильевна, урожденная Бронникова. Она слыла прекрасной певуньей, знала множество сказок и былинок. Дети любили собираться около бабушки и затаив дыхание слушать её чудные предания. Самым внимательным слушателем был Володя. Пройдет много лет и услышанные в детстве причудливые истории лягут в основу мифологических сюжетов живописных полотен художника Лихачёва.
В раннем детстве особой тяги к рисованию Володя не проявлял. Разве что любил сидеть по вечерам рядом с братом, колдующим над очередным выпуском школьной стенгазеты. Так, по словам брата «и пристрастился рисовать». Из воспоминаний старшей сестры Татьяны: «Нас в семье Лихачёвых пятеро детей. Все очень хорошо рисовали. Помню, отец усадит всех нас за круглый стол, раздаст по листу бумаги, поставит в центр какой-нибудь предмет и объявит конкурс на лучший рисунок. Чаще всего побеждал Володя. Отец подметил это и всячески развивал его талант...» Сильное впечатление на Володю в детстве произвело общение с местным жителем Иваном Брызгаловым. Фронтовик, вернувшийся с войны инвалидом, он зарабатывал себе на жизнь рисованием репродукций с известных картин. Наделённый от природы художественным талантом, делал это на редкость искусно. По памяти воспроизводил с доскональной точностью произведения знаменитых живописцев. Лучше всего получалась картина Васнецова «Три богатыря». Володя мог часами наблюдать за магическими действиями самодеятельного художника. Тот заметил интерес мальчика к живописи и всячески поощрял это увлечение. Давал ему кисть и краски, за каждый удачный рисунок хвалил мальчишку. Чем больше Володя с ним общался, тем сильнее в нём зрело убеждение, что он тоже может стать художником. Эту веру укрепил, происшедший с Володей случай. Бегая с мальчишками по старому приходскому кладбищу, он нашёл баночку с охрой. Это событие Володя расценил как знаковое...